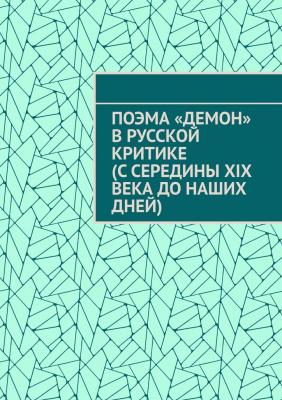ТОП просматриваемых книг сайта:
Поэма «Демон» в русской критике (с середины XIX века до наших дней). Гай Николаевич Серегин
Читать онлайн.Название Поэма «Демон» в русской критике (с середины XIX века до наших дней)
Год выпуска 0
isbn 9785449681362
Автор произведения Гай Николаевич Серегин
Жанр Философия
Издательство Издательские решения
Сколько богов и богинь!..
Все это и продолжалось до начала новой эры. Тут вдруг один свет погас, зажегся другой. Категория правды началась с покойника. Разом хрустнули косточки «божков» -младенцев, «божков» -матерей, «божков» -папаш. Изиды и Озирисы были вынесены, как погань, из храмов. А то, чего потребовали от Пифагора в Египте и о чем было сказано Аврааму: «это – завет вечный даю тебе», было объявлено ветхим, не пользующим более, ненужным, зачеркнутым, неупотребительным. Пала древняя астрология. Любовь стала физиологической, звезды – булыжниками, животные и растения – бифштексом и дровами. Поразительно, что с падением обрезания разом рушились: жертвоприношения, чувство неба, священно-трепетная семья и брак, и стала медленно и упорно угасать, погашаться любовь к детям (метафизика возникновения детоубийства). Старость, дряхлость, а еще лучше – раны, а еще того хуже – гроб вызвали поток совершенно нового умиления, и образовалось другое небо, полное другими небожителями. Они теперь удерживают от рождения, более всего грозят за любовь. Не только у евреев, но в Греции и в древней Италии, человек, прикоснувшись к покойнику, считался нечистым или «оскверненным» до конца дня: ибо в нем – жало смерти, гниение, хвастовство и самоупоение дьявола. Но все это прошло. Какой критерий перемены – этот труп! Перед ним стали воскурять фимиам, возжигать свечи, стали ему немножко поклоняться, – этого нельзя скрыть! Ибо кто уже не романтичен, – то это труп! Туманные образы юношей и дев, навеваемые «луною» ли «астартой», или «звездами – воинством небесным» (выражение о звездах Библии), в объятия которых в древности радостно шли, теперь стали пугать, названы были «соблазнителями». Ведь они уводят от смерти, коренной святости, в жизнь, главный грех. Но вот что замечательно: в новой эре их столько же является. И в средние века не менее было сожжено девушек на кострах за сношения с «духами» («колдуньи», «succubi» и «incubi»). сколько в древности было прославлено храмами и мифами, на Кипре, в Сирии, в Месопотамии, на Ниле. Ничего не умерло, переменились только эпитеты «злой», «добрый».
Лермонтов в «Демоне» в сущности написал один из таких мифов. Все равно, если он ничего не знал о них – это атавизм древности. В древности его стихотворение стало бы священною сагою, распеваемою орфиками, представляемою в Элевзинских таинствах. Место свиданий, сей
монастырь уединенный,
куда отвезли Тамару родители, стал бы почитаемым местом, и самый «Демон» не остался бы с общим родовым именем, но обозначился бы новым, собственным, около Адониса, Таммуза, Бэла, Зевса и других.
До какой степени это так, можно подтвердить одним подробным рассказом Иосифа Флавия о случае, имевшим место в Риме, во времена кесаря Тиверия. Вот этот рассказ. «В Риме жила одна знатная и славившаяся своею добродетелью