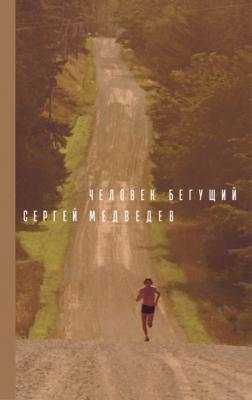ТОП просматриваемых книг сайта:
Человек бегущий. Сергей Медведев
Читать онлайн.Название Человек бегущий
Год выпуска 2021
isbn 9785444814765
Автор произведения Сергей Медведев
Жанр Современная русская литература
Издательство НЛО
После обеда был тихий час, и я лежал в комнате, полутемной от густого леса за окном, слушая одинокие голоса птиц, следя за тенями листьев на потолке. В пять был полдник в столовой, крепкий медный чай из самовара с теплой, свежевыпеченной сдобой, и наступало время тенниса. Отец был не столько сильным, сколько техничным и точным игроком; в юности он занимался у известного московского тренера Вадима Небурчилова. А я, как и в других видах спорта, тоже не занимался в секции, но брал уроки у легендарной динамовской теннисистки Нины Николаевны Лео, многократной чемпионки Союза в 1930-х—1940-х, подготовившей множество знаменитых игроков, включая Анну Дмитриеву. Нина Николаевна была тренером и другом семьи в трех поколениях, давала уроки моей бабушке, затем маме, и, наконец, мне. Думаю, что в лучшие свои годы я играл на уровне второго разряда – в целом, это был приличный дачный теннис, и хотя мне было всего 10—11 лет, мы с отцом составляли боеспособную пару, дольше других остававшуюся на корте в игре по кругу с выбыванием. Помимо самой игры, в теннисе мне нравился ритуал: рукопожатия, переигрывание спорного мяча, извинения за случайно выигранный мяч, задевший трос и изменивший направление – и даже уборка корта между сетами: сначала разравнивание грунта, по которому протаскивали кусок сетки на перекладине, затем заметание линий щеткой – я обычно всегда вызывался делать это.
Но венцом ежедневной программы была вечерняя поездка на велосипедах. Поужинав, мы садились в седла – отец на «Украину», я на «Орленок» – и выезжали из ворот Дома творчества, спускались до шоссе, Большой «бетонки», переезжали мост, в Старой Рузе сворачивали направо и дальше ехали проселками вверх по течению Москвы-реки через поля и деревни (до сих пор помню их названия – Кожино, Полуэктово, Кузянино и Аникино, дальняя точка наших маршрутов), где отец показывал мне детали деревенской жизни. Он был музыкантом широкого профиля – критиком, оперным либреттистом, историком джаза, – но главной его страстью был фольклор: как председатель Фольклорной комиссии Союза композиторов он ездил с экспедициями по Русскому Северу, Вычегде, Печоре и Шексне, выискивал последних носителей традиции, собирал напевы и частушки (помню, его коллекцией матерных частушек живо интересовалась Лиля Брик, которой было уже далеко за 80), и оттуда, как мне кажется, шло его интеллигентское народничество – как и все шестидесятники, что в XIX, что в ХХ веке, он искал правду в толще народной жизни, высоко ценил «деревенщиков», ездил на фестивали в есенинское Константиново и шукшинские Сростки. В позднесоветской деревне он искал признаки умирающей крестьянской цивилизации: показывал мне типы срубов и наличников, учил прибауткам («домик-крошка в три окошка»), заговаривал со старушками на завалинках, непременно останавливался напиться