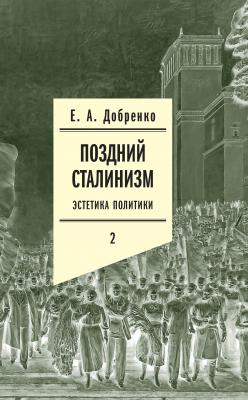ТОП просматриваемых книг сайта:
Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 2. Евгений Добренко
Читать онлайн.Название Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 2
Год выпуска 2020
isbn 978-5-4448-1334-8
Автор произведения Евгений Добренко
Жанр История
Издательство НЛО
Критика Марром позитивистской лингвистики (а с ним и бахтинская философия языка) не только была связана с неоламаркистской биологией Лысенко через общую для них «„бергсонианскую“ структуру мышления, сторонники которой пытались в первой трети столетия (как в биологии, так и в филологии и эстетике) выработать альтернативу тому, что они рассматривали как новую (авангардную) версию позитивистского, „механического“ подхода, на который изначально и был обращен критической пафос Бергсона»[89], но и прямо формировала самую метафорику Марра.
Несомненно, что последний утверждал «органический» (в противовес «формальному») подход к языку. Отсюда – интерес к происхождению и истории языка и критика «формальной грамматики», в которой Марр видел продукт средневековой схоластики, идеализма и формализма. Для человека, который находил отражение классовых отношений, отношений господства и подчинения в подчинении предиката подлежащему, в степенях сравнения прилагательных (так, низшая степень сравнения означала низшее сословие, средняя – среднее сословие, а превосходная – высшее сословие), грамматика не могла не представляться мертвой дисциплиной («Итак, долой грамматику? Зачем? Заменить изучением динамики языка, его стройки»[90]). Старая грамматика определялась им как «материальная грамматика»[91], что заставляет вспомнить о «материальной эстетике», против которой в 1920‐е годы выступал широкий фронт – от РАППа и «Перевала» до Бахтина. Можно предположить, однако, что романтическое «органическое» историзирование было компенсацией за отказ от рационалистической языковой классификации, третируемой как «фикция» и «миф».
С другой стороны, замена «механической» парадигмы «органической», столь очевидно заявившая о себе в литературе[92], вела к торжеству романтической истории. В частности, к постоянному акцентированию в ней момента «творческого» взаимодействия со средой как у Лысенко, так и у Марра. В обоих случаях результатом было создание параллельной реальности и отказ от «объяснения» мира во имя его «изменения» – расширение художественного фантазирования сопровождалось радикальной интерпретацией марксизма.
В этом смысле можно говорить о том, что сталинская культура оказалась не просто наследницей, но наиболее радикальной реализацией модернистского политико-эстетического проекта. Как замечает по этому поводу Б. Гаспаров,
время «индустриального» строительства нового мира и нового человека, основанного на обдуманной и научно обоснованной селекции «правильных» компонентов, прошло. Человека больше не рассматривали как винтик в машине; в нем скорее предполагали клетку организма. Человек и его труд больше не воспринимаются как деталь, которая либо подходит работающему
См.: