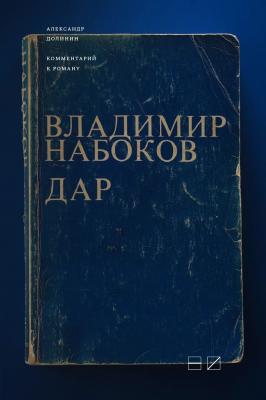ТОП просматриваемых книг сайта:
Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар». Александр Долинин
Читать онлайн.Название Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар»
Год выпуска 2019
isbn 978-5-98379-234-0
Автор произведения Александр Долинин
Жанр Русская классика
Издательство Новое издательство
В «Воре», o сходстве которого с романом Жида говорили уже первые критики (см.: Shepherd 1992: 42), писатель Федор Фирсов (тезка Годунова-Чердынцева) погружается в жизнь московского воровского дна, чтобы написать о нем книгу; как Эдуард, он ведет записную книжку, которая «с изуверством зеркала отпечатлевала всякую ничтожную мелочь», и ее фрагменты приводятся в тексте (Леонов 1928: 203, 387–393); в нем борются желание быть верным жизненной правде и стремление искажать ее «до слепительного великолепия» в кривом зеркале воображения; его прототипы читают посвященные им страницы и не узнают собственные портреты (Там же: 367, 375); в конце романа мы узнаем, что книга Фирсова «Злоключения Мити Смурова»[17] увидела свет, и знакомимся с отрицательными рецензиями на нее.
У Вагинова в «Козлиной песни» нет персонажа-писателя, который играл бы роль двойника «внешнего» автора, но зато сам автор то и дело прерывает повествование своими насмешливыми «междусловиями» и другими вторжениями в собственный текст, создавая эффект, который Шкловский называл «подчеркиванием рампы, установкой на условность искусства, педалированием его» (Шкловский 1929: 116). При этом статус автора по отношению к персонажам почти до конца романа остается не определенным. С одной стороны, он приглашает их на ужин, подсматривает за ними, подслушивает их разговоры, а с одним из главных героев – Неизвестным поэтом – дважды вступает в диалог, то есть сосуществует с ними в одной «реальности». С другой стороны, в тексте имеется немало намеков на то, что все эти встречи и беседы происходят лишь в воображении автора: после ужина гости «бледнеют и один за другим исчезают» (Вагинов 1991: 92); автор слышит разговор персонажей, который физически слышать не может (Там же: 45); он видит своих героев «стоящими в воздухе» (Там же: 145). Ближе к концу романа, в последнем «междусловии», автор описывает свою внешность. У него «остроконечная голова с глазами, полузакрытыми желтыми перепонками» и «уродливые от рождения руки: на правой руке три пальца, на левой – четыре» (Там же: 144). Иными словами, он больше похож не на человека, а на какого-то доисторического ящера или птицу, гостя из потусторонности, чье присутствие ощущают персонажи.
Своему герою, прототипа которого зовут Митя Векшин, Фирсов дает литературную фамилию, заимствованную из «Братьев Карамазовых» и повести М. А. Кузмина «Крылья» (1906). Набоков позже использует ее в повести «Соглядатай» (1930).