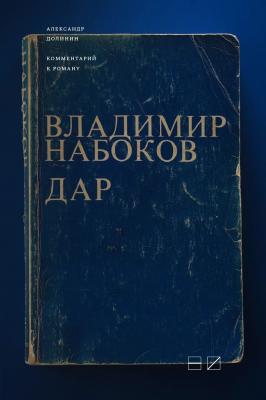ТОП просматриваемых книг сайта:
Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар». Александр Долинин
Читать онлайн.Название Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар»
Год выпуска 2019
isbn 978-5-98379-234-0
Автор произведения Александр Долинин
Жанр Русская классика
Издательство Новое издательство
Еще один адресат набоковских пародий – рижский критик старшего поколения П. М. Пильский (1879–1941; см. о нем: Абызов, Исмагулова 1999) – уже в первой главе «Дара» увидел авангардистское ниспровержение традиции, эксперимент небесталанного «литературного фокусника», которому «надоели все прежние словесные формы – и прежние, и теперешние, особенно русские» и который «презирает, а может быть и ненавидит труд писателя, этот процесс, эту профессиональную технику» (Сегодня. 1937. № 117. 29 апреля; Мельников 2000: 151–152).[15] В следующей рецензии он похвалил прекрасные страницы о бабочках в начале второй главы – «ливень слов, россыпь красок, их сияние, мерцание, их сверкающий каскад», но не удержался от критических замечаний, показав свою полную некомпетентность: «Конечно, и здесь у Сирина нескрываемы злая ирония, склонность к пародированию и сатире, насмешливое упоминание о <… > кокетничающих, вычурных и бездарных стихах какого-то Годунова-Чердынцева, – в романе эта фамилия является как бы собирательным псевдонимом» (Сегодня. 1937. № 274. 6 октября). Когда в пятой главе «Дара» критик Линев, рецензируя «Жизнеописание Чернышевского», путает почти все имена и названия, даже имя автора, эти ляпсусы явно указывают на Пильского, умудрившегося не понять, что Годунов-Чердынцев – это фамилия главного героя рецензируемого им романа (см.: [5–2]).
После публикации третьей главы Пильский негодовал:
Сирин – чучельщик, творец живых и неживых чудес. Главным образом, – не живых, ему и бабочки интересны только в коллекциях, а его герои – не живые люди, а восковые фигуры, это не мир – а музей. Сирин живет в царстве кукол и петрушек. Он дергает за нитку эти фигуры, и они кривляются, подмигивают, улыбаются, подпрыгивают, – минутами это бывает совсем так, как у настоящих живых людей. Наиболее сильная сторона сиринского дарования заключается в его умении пародировать. Например, в последнем отрывке он очень хорошо схватывает речевые оттенки некоего Буша, его несуразные, с виду многозначительные формулы, его карикатурную фигуру, доверчивость и глупость. Но и этот Буш – тоже не живой, это – тоже чучело, искусственная помесь овцы и осла. Немыслимо передать содержание этих новых глав сиринского романа. Да, целуются, да, сходятся, да, говорят,
В письме жене от 3 мая 1937 года Набоков писал об этой рецензии: «… пошлый кретин Пильский в пространной статье обиделся на мой „Дар“, говоря, что „ничего не понял в нем“ и „не представляю себе, кто может понять“. Вообще, статья – перл тупости» (Набоков 2018: 342; Nabokov 2015: 367).