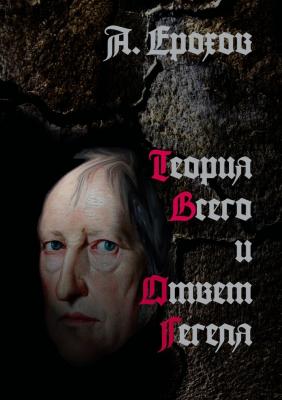ТОП просматриваемых книг сайта:
Теория Всего и Ответ Гегеля. Александр Ерохов
Читать онлайн.Название Теория Всего и Ответ Гегеля
Год выпуска 0
isbn 9785449353788
Автор произведения Александр Ерохов
Жанр Философия
Издательство Издательские решения
В сегодняшней антропологии поиски исходной точки появления человека в процессе эволюции отодвигаются всё дальше и дальше в глубину прошлого. Плодотворность и необходимость таких исследований никто не подвергает сомнению, но четкое понимание того, что человек появился тогда и только тогда, когда осознал собственное «я», в этих исследованиях отсутствует совершенно. Только момент осознания собственного «я» есть истинная временная точка появления человека, до этой точки человека не существовало – существовало животное, один из многих сотен тысяч видов и подвидов животного царства. Поэтому Библия, которая относит момент появления человека к тысячелетиям, значительно ближе к действительному положению дел, чем антропология, которая относит момент появления человека к миллионам лет.
Но не стоит торопиться трактовать этот качественный эволюционный скачок как исключительно положительное событие. Конечно, метаморфоза превращения сознания в самосознание позволила человеку возвыситься над внешней действительностью. Осознавая себя, человек смог не только более адекватно реагировать на моментальную ситуацию, но и планировать своё место в будущих ситуациях и, в соответствии с этим новым знанием, выбирать более эффективные стратегии поведения. Более того, человек смог создавать выгодные ему ситуации, гарантируя своё превосходство в будущем. Однако, как и во всяком событии, осознание своего «я» имело и свои отрицательные стороны, свои червоточины. Преодоление предлежащего мира через «я» гипертрофировало эго человека, создало устойчивую иллюзию резкой границы между «я» и «не-я», упоение своей силой и властью над «не-я». Из памяти человека совершенно исчезло то первичное животное сознание, чувственно воспринимающее «не-я» как единственно существующее «я» и, так же как и самосознание, имеющее в себе истину. В Библии этот горделивый разрыв с «не-я», нивелирование его до ничтожности, сообщается как миф о грехопадении человека. Это «человеческое и только человеческое» – сладостная мука существования только в разрыве «я» и «не-я» – и есть то самое гегелевское «несчастное сознание» в его чистом виде6. Не преодолев это «несчастное сознание», не вырвавшись из тисков гордыни «только человеческого», а значит и не достигнув нового эволюционного «сверхчеловеческого» качества, «я» и мир не смогут обрести истинного единства. Эволюция не закончилась, эволюция продолжается в нас и через нас. Гегель открывает путь к преодолению (к тому, что в христианстве есть «спасение») через спекулятивное мышление, через восстанавливающее единство причащение эго к Абсолютному Духу.
Когда мы пытаемся понять сущность «я», мы изначально приходим к атомарности, к множественности «я», к тому, что даётся нам непосредственно в опыте. Мы представляем себе наше «я» как изолированные эго, как то, что разбивает единство мира на множество осколков,
Введение в научный оборот Т. Куном такого понятия, как парадигма, позволяет нам в рамках этой терминологии пояснить следующее. Парадигма как некая матрица устоявшихся мыслимых очевидностей, сквозь которую индивидуум воспринимает действительность, проявляется в разрыве «я» и «не-я» не просто как одна из трёх сверхобобщающих парадигм – сферы, луча и отрезка [13], – но как сверх-сверхобобщающая единственная парадигма, свойственная каждому человеку, как матрица очевидности раздельного бытия «я» и «не-я», мнимой очевидности, очевидности, которая должна быть необходимо преодолена если не в человеке, то, возможно, в новом эволюционном формообразовании. Примечание к примечанию: нет ничего невозможного в том, что некие эволюционные формообразования в прошлом уже преодолевали уровень животности и достигали ступени самосознания, то есть «человеческого» состояния, но ушли, так и не сумев преодолеть в себе это «человеческое» – многочисленные сообщения о передаче знания человеку от «мудрого змия» весьма соблазнительны в этом смысле. Может быть, первоначальное существование человека есть некий симбиоз уходящей и вновь нарождающейся эволюционных самосознательных форм.