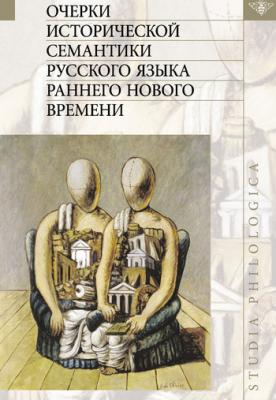ТОП просматриваемых книг сайта:
Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени. Коллектив авторов
Читать онлайн.Название Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени
Год выпуска 2009
isbn 978-5-9551-0352-5
Автор произведения Коллектив авторов
Жанр Языкознание
Карамзин, как видно из приведенных выше примеров, не придерживается этой дифференциации в своих собственных сочинениях, однако в данном случае важен сам опыт разделения. В это же время появляется сатирическое обыгрывание взгляда на праздность как на отличительную принадлежность благородного человека (сходного с воззрениями Сент-Эвремона). Н. И. Страхов, сатирик новиковского направления, в «Карманной книжке приезжающих на зиму в Москву» советовал семействам, прибывающим развлекаться в Москву, не покупать книг «о благоупотребленïи времени, потому что праздность есть главнѣйшимъ правиломъ благоурожденныхъ людей» [Страхов 1791: 87]. Реабилитация праздности, однако, оказывается сильнее этих благоразумных размышлений, и в легкой поэзии начала XIX в. праздность царит как в эстетической, так и в этической ипостасях [60].
Если у Карамзина эта переоценка еще только начинается, то у Батюшкова она явно идет дальше окказиональных словоупотреблений. В «Похвальном слове сну» из «Опытов в стихах и прозе» сон как состояние абсолютной праздности превозносится как «стихия лучших поэтов»: «Но почему сон есть стихия лучших поэтов? Отчего они предаются ему до излишества, забывают все – и славу, и потомство, и золотое правило древности, которое говорит именно, что праздность без науки – смерть, otium sine letteris mors est?» [Батюшков 1977: 135]. Автор оставляет этот вопрос без ответа, однако из самой его постановки явствует, что otium обладает для автора большей ценностью и принимается без тех оговорок, которые считал необходимыми Сенека. В письме В. Л. Пушкину 1817 года Батюшков писал: «Ваши сочинения принадлежат славе: в этом никто не сомневается. {…} Но жизнь? Поверьте, и жизнь ваша, милый Василий Львович, жизнь, проведенная в стихах и в праздности, в путешествиях и в домосидении, в мире душевном и в войне с славянофилами, не уйдет от потомства» [Батюшков III: 433] [61].
У А. С. Пушкина, племянника Василия Львовича, позитивная праздность встречается повсеместно, особенно в его относительно раннем творчестве (см. [СЯП III: 677]; см. также работу Ю. Семенова, в которой дается неполный обзор употреблений праздности и досуга у Пушкина и пушкинские пристрастия помещаются в романтическую антибуржуазную парадигму [Semjonov 1960]). Так, в лицейской редакции послания к В. Л. Пушкину 1817 г. находим [Пушкин I: 252]:
Но вы, враги трудов и славы,
Питомцы Феба и забавы,
Вы, мирной праздности друзья,
Шепну вам на-ухо: вы правы,
И с вами соглашаюсь я!
«Питомцы Феба» оказываются друзьями праздности, а поэзия, следовательно, – плодом otium’а. В «Деревне» (1819 г.) Пушкин пишет [Пушкин II: 89]:
Я твой – я променял порочный двор Цирцей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.
К этому можно добавить
В этот же период, надо думать, появляются первые позитивные упоминания
О