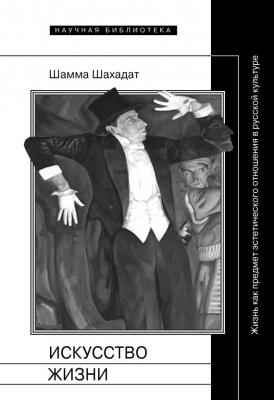ТОП просматриваемых книг сайта:
Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков. Шамма Шахадат
Читать онлайн.Название Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков
Год выпуска 0
isbn 978-5-4448-0816-0
Автор произведения Шамма Шахадат
Жанр Культурология
Издательство НЛО
История модернистского театра определяется борьбой и взаимодействием двух тенденций: стремления к ретеатрализации[132] и противоположного стремления к ослаблению театральности как таковой путем ее интеграции в ритуал и в саму жизнь.
Тенденция к ретеатрализации отражает возрастающий с конца XIX века приоритет маски над лицом и предполагает строгое разграничение искусства и жизни. Своего наивысшего развития эта тенденция достигает в манифесте Гордона Крэга «Актер и сверхмарионетка», относящемся к 1908 году. Крэг сожалеет, что лицо и тело актера имеют характер случайности и потому не могут служить идеальным «материалом для театра» (Craig, 1957, 56).
Актерское искусство не есть искусство подлинное. Неверно говорить об актере как о художнике. Все случайное – враг художника. Искусство есть абсолютная противоположность хаоса, а хаос возникает из нагромождения множества случайностей. Искусство имеет в своей основе план
Ретеатрализация театра требует, по Крэгу, обращения к театру кукол и театру масок. Противоположная тенденция – к детеатрализации театра – находит отражение в теориях и экспериментах, направленных на возврат театра к ритуалу и к жизни. Нирман Мораньяк характеризует теоретические взгляды Иванова как путь к упразднению театра (Мораньяк, 1995, 8). Театр, где жизнь (бытие, тело) встречаются с текстом (значением, знаком) (см. об этом: Fischer-Lichte, 1994, 195), выступает как утопическое пространство жизнетворчества, в котором реальность будет замещена знаковой системой, тело и жизнь превратятся в знаки и станут управляемыми.
В ходе наших дальнейших рассуждений мы пытаемся раскрыть взаимоотношения театра и жизни по двум направлениям. Во-первых, анализу подлежит значение театра как модели жизнетворческих проектов и экспериментов, причем связующим звеном между театром и жизнью выступает понятие трансформации, преображения. Во-вторых, следует привести ряд примеров, образующих эту традицию – традицию взаимодействия театра с жизнью.
К их числу относятся: символистское жизнетворчество (проект соборного действа как коллективной мистерии у Иванова и теория преображения зрителя, выдвинутая Блоком); концепция театрализации жизни, развернутая Евреиновым; футуристический театр, объявивший слово средством преобразования жизни, а художника – творцом нового мира; и, наконец, политический театр революции, получивший развитие в форме театральных кружков, массовых театрализованных представлений, а также в таком своеобразном варианте синтеза искусства и жизни, как коммунистические субботники.
Рассматривая специфику театра и театральности, мы опираемся на функциональный подход Яна Мукаржовского[134] (1994), по мысли которого театр является театром постольку,
Антрополог Рихард Шехнер рассматривает теорию театра XV–XX веков, исходя из формулы «From Ritual to Theatre and Back» и подчеркивая диалектическое противоречие между функциями воспитания, или воздействия (
О движении ретеатрализации см.: Fischer-Lichte, 1990, 163 – 191. По мнению Фишер-Лихте, явление ретеатрализации включает в себя также и тенденцию к возрождению ритуальности, тогда как мне представляется, что ритуал театру противопоставлен и означает скорее его поглощение, чем возрождение. Становясь ритуалом, театр хотя и возвращается к своим античным истокам, но при этом отдаляется от современного понимания театра, предполагающего дистанцию между актером и зрителем, искусством и жизнью.
Ретеатрализация тяготеет к театру масок: маска или лицо – вот вопрос, характеризующий дискуссию об актере после Дидро с его «Парадоксом об актере» (1770 – 1773). Представление как об актере, так и о его сопернице-марионетке с самого начала получает антропологическое обоснование. «Masks or Faces?» – спрашивал в 1888 году шотландский критик и переводчик Уильям Арчер, откликаясь на полемику между актером Констаном Кокеленом, который отстаивал тезис о двойственности актера («Актер как двойственное существо» – Coquelin, 1894, 3), и его оппонентом Генри Ирвингом, упрекавшим Кокелена в том, что тот не владеет искусством трагического (см. комментарий Лазаровича к текстам Кокелена – Lazarovicz / Balme, 1991, 216). На Кокелена ссылался позднее Мейерхольд в своей статье по биомеханике («Актер будущего и биомеханика», Мейерхольд, 1968, II, 489). Эта тема намечает вопрос, который в данной работе не рассматривается, а именно: об антропологической природе актера в театре и в киноискусстве 1910 – 1930-х годов (Михаил Ямпольский обозначил эту проблематику словами «new anthropology of the actor» – Yampolsky, 1991). В этом случае также возможно было бы говорить об искусстве жизни, поскольку актер выступает как объект эксперимента по созданию нового человека. Актер становится подопытным материалом, на котором испытывается возможность человека владеть своим телом – с помощью ритмики, жеста, мимики и т. д. Эти эксперименты берут свое начало в рецепции Сергеем Волконским систем Далькроза и Дельсарте и достигают кульминации в учении Мейерхольда о биомеханике, а в киноискусстве у Льва Кулешова в «Натурщике» и у Дзиги Вертова в «Новом Адаме» (см.: Bochow, 1997; о Кулешове: Yampolsky, 1991; Ямпольский, 1996, 253 – 276). В центре моего внимания находятся, в отличие от этого, не техника механического конструирования нового человека, а утопические проекты, овеянные мечтой о преображении. Что касается проектов перестройки человека с помощью ритмических упражнений, на основе расчета и тренировки, то здесь на первый план выходит традиция киноискусства, ибо новый человек создается в этом случае не только путем обретения власти над телом, но и с помощью кинематографической техники, монтажа и так называемого «эффекта Кулешова»: лицо актера, соседствующее с различными предметами, лишено выражения, однако в результате монтажа зритель, в зависимости от того, с каким предметом скомбинировано «опустошенное» лицо, проецирует на него различные эмоции.
К теории Мукаржовского в контексте чешского формализма см.: Herta Schmid, 1975, 19 – 32, в контексте русского авангарда: Kleberg, 1993, 40 – 47.