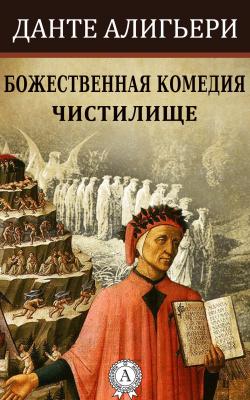ТОП просматриваемых книг сайта:
Божественная комедия. Чистилище. Данте Алигьери
Читать онлайн.Название Божественная комедия. Чистилище
Год выпуска 0
isbn
Автор произведения Данте Алигьери
Жанр Поэзия
Издательство Стрельбицький Дмитрий Майєвич
Козенцский пастырь, – тот, кого из злости
Климент на травлю вслед за мной подвиг,[122] —
127. То и поднесь мои почили б кости
У Беневенто, во главе моста,[123]
Под грудой камней на пустом погосте.
130. Теперь их моет дождь, во все места
Разносит ветр вдоль Верде, где истлеет[124]
Мой бедный прах без звона и креста.[125]
133. Но их проклятье силы не имеет
Пресечь нам путь к божественной любви,
Пока хоть луч надежды сердце греет.
136. Но, правда, всяк, кто кончил дни свои[126]
Под гневом церкви, если и смирится,
Пребыть обязан вне святой семьи,
139. Доколе тридцать раз не совершится[127]
Срок отлученья, если только он
Молитвами по нем не сократится.[128]
142. Так утоли ж, коль можешь, сердца стон:
Открой Констанце, возлюбившей Бога,
Где зрел меня, a также тот закон:
145. Живые там помочь нам могут много.
Песнь четвертая
1. Коль скоро скорбь, иль радость огневая
Охватят в нас одну из наших сил,
Тогда душа, с тем чувством вся слитая,
4. Как будто гасит всех движений пыл:
Вот тем в отпор, y коих мы читаем,
Что будто Бог нам душу в душу влил.
7. Вот потому-то, если мы внимаем
Иль видим то, что душу нам пленит, —
Бегут часы, a мы не замечаем:
10. Затем что в нас одна способность зрит,
Другая – душу в плен берет всецело;
Когда та бодрствует, в нас эта спит.[129]
13. В сей истине я убедился зрело.[130]
Пока внимал Манфредовым словам,
На пятьдесят уж градусов успело
16. Подняться солнце: я же только там[131]
Приметил то, где хором душ тех стадо
Нам крикнуло: – Вот, вот, что нужно вам![132]
19. Щель большую заткнет в шпалере сада
Одним сучком терновым селянин,
Когда буреют гроздья винограда,[133] —
22. Чем та тропа, по коей лез один
Я за певцом, сердечной полон боли,
Когда исчез отряд теней с долин.
25. Восходят в Лео, и нисходят в Ноли,
На Бисмантову лезут на одних[134]
Ногах; но тут потребны крылья воли, —
28. Тут я летел на крыльях огневых
Желаний жарких вслед за тем вожатым,
Что мне светил надеждой в скорбях злых.
31. Мы лезли вверх ущельем, тесно сжатым
Со всех сторон утесами, где круть
Просила в помощь рук и ног по скатам.[135]
34. И вот, едва успел я досягнуть
До высшего скалы громадной края, —
Куда, мой вождь, – спросил я, – держим путь?
37. А он: – Вперед,
«Смысл священных книг» (в подлиннике: Se'l pastor di Cosenza…. avesse in Dio ben letta questa faccia – faccia, страница, лист книги), т. е. еслиб он понял смысл священных книг, где значится, что Господь всегда готов прощать обращающихся к нему грешников.
«На травлю» (в подлиннике: alla caccia); так выражается поэт для обозначения ярости архиепископа, преследующего своего личного врага даже за могилою. Историк Саба Малеспини употребляет это же слово для выражения добычи, доставшейся Карлу Анжуйскому после поражения Манфреда, часть которой он передал папе: «Ut autem гех Carolus…. de primitiis laborum suorum participem faciat patrem patrum, et de sua venatione (caccia, охота, травля) pater ipse praegustet, duos сегоferarios aureos etc… Clementi transmittit».
После проиграннаго сражения при Беневенто труп Манфреда, снявшаго перед сражением с себя все свои королевския отличия, долго не могли найти на поле битвы; наконец он был найден с двумя ранами: одной на голове, другой в груди (ст. 108 и 111). Напрасно просили бароны короля французскаго сделать убитому почетное погребение. «Si, je ferais volontiers, si luy ne fut scommunié», отвечал Карл. Таким образом он был погребен во главе моста (in co'del ponte) y Беневенто; солдаты неприятельскаго войска сами воздвигли ему памятник, так как каждый из них принес по камню на его могилу. Но папский легат, архиепископ Козенцы кардинал Бартоломео Пиньятелли, личный враг Манфреда, не дал несчастному королю и этой бедной могилы. По повелению папы Клемента IV он приказал вырыть труп, чтоб он не осквернял, как отлученный, землю, принадлежащую церкви, и перенести его на границу Абруццо, где он и был, повидимому, без всяких почестей брошен, не погребенный, в долине, орошаемой рекою Верде (на что указывают ст. 130–132). Впрочем факт этот не вполне доказан; по крайней мере историк Рикордино Малеспини, сообщая об нем, прибавляет «si disse»; Виллани же списывает у Малеспини и прямо ссылается на Данте. В пользу Данте говорит и предание местных жителей на берегу Верде.
«Верде» – «по древним комментаторам, боковой приток, впадающий в Тронто, недалеко от Асколи, и образующий на некотором протяжении границу между Неаполитанским королевством и Анконской областью. Позднее она называлась Марино, a теперь – Кастеллано. Несколько выше того места, где сливаются Тронто и Верде, при Арквата, в пограничных горах к Норчиа находится озеро, около которого, по мнению тамошних жителей, находится вход в ад. Очень может быть, что Пиньятелли, в своей злобе к Манфреду, именно потому и велел бросить здесь труп его. Другие, без достаточных причин, хотят видеть Верде в нынешнем Гарильяно и, вопреки Данте, полагают, что труп Манфреда был брошен около Чеперано». Карл Витте.
«Без звона и креста» (в подлиннике: а lume spento, с погашенными свечами): отлученные от церкви погребались без всяких церемоний, sine cruce et luce, при чем гасили свечи.
Гвельфский писатель, современник Данте, Вилланине разделяет этого мнения; говоря о смерти отлученного от церкви Конрадина, он замечает, что душа его, вероятно, будет в числе погибших: «отлучение от св. церкви, справедливое или несправедливое, всегда страшно, ибо кто читает древние хроники, тот найдет в этом отношении много удивительных повествований. Чезари, сам священник, но принадлежащий
«Подражание Энеиде, VI, 327, где говорится, что души непогребенных должны скитаться 100 лет, прежде чем перейдут через Стикс. Тридцать раз столько, насколько был отлучен – срок этот не основан ни на каком церковном постановлении и принять поэтом произвольно». Ноттер. Итак все те, которые не получили церковного отпущения, осуждены оставаться у подошвы Чистилища, в antipurgatorium, где еще нет места для настоящего очищения. Смысл тот: кто восстал против церкви, тот не может тотчас достигнуть истинного познания и раскаяния.
Учение о предстательстве святых (intercessio) очень явственно высказывается повсеместно в Чистилище, равно и уверенность в том, что благочестивые молитвы живых много сокращают срок, по прошествии которого умершие становятся святыми (Чистилища VI, 37–39). В Италии и поныне молитвы о душах в чистилище очень свято соблюдаются.
В этих терцинах Данте опровергает мнение тех философов, которые утверждали, что в человеке не одна, но несколько душ. Именно, по мнению платоников, душа человеческая тройственна: вегетативная, сенситивная и интеллектуальная, или рациональная; при чем каждая из них занимает в теле свое особое место. Против этого возражал уже Аристотель. Фома Аквинский опровергал это мнение почти теми же словами, как и Данте: «Очевидно, что множественность души дело невозможное, уже потому, что если одна деятельность души сильно напряжена, то другая задерживается». Согласно с этим Данте принимает лишь одну душу, именно мыслящую или разумную; но вместе с тем приписывает ей многие силы и способности, частью внутренние, как ощущение боли (скорби) и удовольствия, частью внешние – при посредстве телесных чувств; нередко при этом душа вся отдается одной какой-нибудь способности или отдельной силе, так что кажется как бы связанною тою силой, тогда как отдельная сила, например сила слуха, действует непрерывно и свободно. «В этом», говорит Данте, «я сам убедился: пока душа моя занята была лишь тем, что я смотрел и слушал Манфреда, незаметно для меня протекло время». Каннегиссер. Филалет. Мнение о нескольких душах было осуждено, как еретическое, уже на восьмом вселенском соборе, и Фома Аквинский приводит против него одно место из блаж. Августина (Т. I, Quaest. 76, Art. III).
«Т. e. сила, восприемлющая внешние впечатления – есть нечто иное, и нечто иное – полная сила души; первая связана с последней, и потому если эта последняя чем-нибудь внутренне сильно занята, то первая не воспринимает извне никаких впечатлений, хотя внешний мир постоянно лежит перед нею». Ноттер.
Сфера неба делится на 360°, которые солнце кажущимся образом пробегает в 24 часа, следовательно 15° в час. Значит, теперь будет, если мы примем первый день замогильного странствования Данте:
27-е марта – 9 ч. 28 мин., или
7-е апреля – 10 ч. без 1 мин., или
10-е апреля – 10 ч. 8 мин.
Следовательно поэты шли вместе с Манфредом почти 2 часа.
T. e. здесь подъем на гору, о котором вы спрашивали нас (Чистилища III, 76 и след.).
Чтобы показать нам, как узка была щель в скале, по которой следовало им взбираться на горы, поэт сравнил ее со щелью в стене или ограде виноградника, которую повсеместно в Италии и в Германии заделывают ветками терновника, особенно осенью, когда начинает поспевать (когда буреют, quando l'uva imbruna) виноград, для защиты от расхищения. – Не без отношения к вертограду Христову здесь употреблено сравнение с виноградником, a узкостью пути, ведущего в него, намекается на слова Спасителя: «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Матф. VII, 14.
«Лео» (или, собственно, Санлео, иначе Читта-Фельтриа) – город, расположенный на отвесной скале, недалеко от Сан-Марино, в местности Монтефельтро, откуда родом знаменитый гибеллинский род графов Монтефельтро. – «Ноли», – город на обрывистом берегу Riviera di Ponente, в Генуэзской области, между Финале и Савона. – «Бисмантова» – местечко, или деревенька (villaggia) на обрывистой горе, недалеко от Реджио, в Ломбардии.
«Поэты лезут теперь по самой нижней части горы чистилища, которая вместе с тем есть самая крутая. В начале эта часть горы все подымается вверх, как голая утесистая стена, на которую можно подняться лишь сквозь упомянутую узкую щель; потом достигают к весьма крутому, в 45°, склону (ст. 41–42), на который можно взобраться в любом направлении». Филалет.