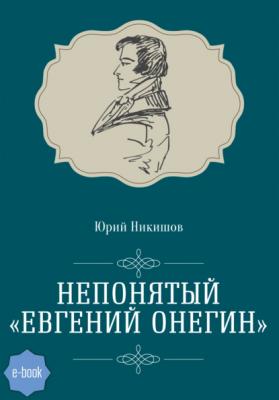ТОП просматриваемых книг сайта:
Непонятый «Евгений Онегин». Юрий Никишов
Читать онлайн.Название Непонятый «Евгений Онегин»
Год выпуска 0
isbn 9785996517190
Автор произведения Юрий Никишов
Жанр Критика
Издательство СУПЕР Издательство
Остроумно о несомненном сказал М. Л. Гаспаров: «Филология трудна не тем, что она требует изучать чужие системы ценностей, а тем, что она велит нам откладывать на время в сторону свою собственную систему ценностей. Прочитать все книги, которые читал или мог читать Пушкин, трудно, но возможно; забыть (хотя бы на время) все книги, которых Пушкин не читал, а мы читали, неизмеримо труднее»[15].
Но нас слишком много, и в такой массе как не найти единомышленников — среди тех, кто и сам не противится стать сочувственником писателя, даже стремится к этому. Так или иначе, исследователь (читатель) неизбежно оказывается перед сознательным или интуитивным выбором. Увы, не переведутся и те, кто жаждет отпустить на волю произвол своих суждений, кого прельщают Моськины лавры («Ай, Моська! знать, она сильна, / Что лает на Слона!»). Но остается и надежда встретить тех, кому потребно понять произведение и его автора.
С кем поведешься, от того и наберешься. Награда за старание обеспечена: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». Простым такое занятие может показаться разве что на первый, поверхностный взгляд. Казалось бы, какие сложности: бери эти мысли да обдумывай их. Ну вот одна, для примера: «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным» (Х, 96). Это — перед изложением мнения о «Горе от ума» Грибоедова. Только ведь Грибоедов не был теоретиком, и законы, над собою им признанные, им не собраны и не изложены в осмысленном порядке. Выполнение такой задачи падает на плечи читателя (исследователя) — и результат оказывается неодинаковым.
Пушкин и сам уводил за собой читателя туда, где ясность изображения становилась проблематичной. 6 февраля 1823 года (в канун работы над «Онегиным») он писал Вяземскому в полемике по поводу концовки поэмы «Кавказский пленник»: «не надобно всё высказывать — это есть тайна занимательности» (Х, 47). Тут многое зависит от чувства меры. Несколько позже Пушкин признает правоту замечаний Вяземского насчет концовки «Пленника»: «это место писано слишком в обрез» (Х, 55). И обратим внимание: поэт допускает колебание в оценке, достаточно ли четко он обозначил свою позицию, но ничуть не равнодушен, как его описание будет принято. И не будем пенять ему за возникающую двусмысленность некоторых выражений: его задача заведомо шире, чем задача говорить внятно.
А вот как позицию поэта понимает В. С. Непомнящий: «…В основе у него — как раз наличие «пустоты» в том месте, где у других писателей — психологический анализ, описание, подробности и нюансы. …Мы обнаруживаем, что и детали, и нюансы здесь есть, но — не заданные