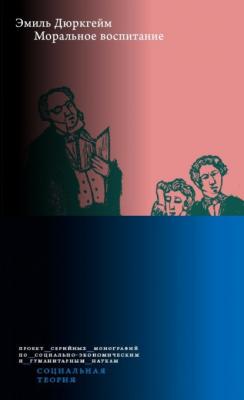ТОП просматриваемых книг сайта:
Моральное воспитание. Эмиль Дюркгейм
Читать онлайн.Название Моральное воспитание
Год выпуска 1925
isbn 978-5-7598-2409-1
Автор произведения Эмиль Дюркгейм
Жанр Философия
Серия Социальная теория
Издательство Высшая Школа Экономики (ВШЭ)
Будучи рационалистом, Дюркгейм, однако, никоим образом не принадлежал к тем наивным «взрослым детям», которых «можно встретить …среди естествоиспытателей», «на кафедрах или в редакторских кабинетах», и о которых писал Вебер в своей знаменитой лекции «Наука как призвание и профессия»[46]. В этой же лекции немецкий мыслитель сформулировал свой известный риторический вопрос: «Какой человек отважится «научно опровергнуть» этику Нагорной проповеди…»[47].
Дюркгейм, несмотря на свою приверженность рационализму и веру в науку, вполне согласился бы с веберовским вопросом и подразумеваемым ответом. Дело в том, что он никогда не считал, что наука должна решать подобные задачи. Ее цель, по Дюркгейму, – в том, чтобы не опровергать, а прояснять, объяснять этику Нагорной проповеди, так же, впрочем, как и любую другую. В данном отношении его позиция полностью совпадала с веберовской.
Более того, Дюркгейм в определенном смысле дал ответ на поставленный Вебером вопрос еще до того, как он был задан. Речь идет, в частности, о его выступлении в дискуссии «Наука и религия», состоявшейся во Французском Философском обществе 19 ноября 1908 г. Там он высказал мысль (впрочем, не впервые) о том, что наука о религии, как и любая другая наука, не может отвергать реальность изучаемого ею объекта или способствовать его исчезновению. В то же время наука не может просто подтверждать те представления, которые имеются у верующего о своей конфессии, иначе в существовании этой науки не было бы никакого смысла. «Она не может, следовательно, объяснять сакральный характер Библии и Евангелий так же, как объясняет его самому себе верующий. Но она сможет сделать это иначе; она покажет, что этот сакральный характер не является чисто воображаемым, что он коренится определенным образом в реальности, а именно в социальных условиях, в которых христианство было образовано и организовано»[48]. В сущности, вся социология религии Вебера, как и социология религии Дюркгейма, как раз и состояла в объяснениях такого рода. Несмотря на то что один из них провозглашал невозможность вмешательства науки в сферу сакральных ценностей, а другой придавал сакральный характер самой науке, их объединяла общая научная этика, этика честного, бескорыстного и непредвзятого исследования.
Дюркгейм подчеркивал, что даже самые диковинные, абсурдные с логической точки зрения и «иррациональные» культурные и поведенческие образцы могут и должны объясняться, проясняться наукой, но отнюдь не опровергаться ею. В «Элементарных формах религиозной жизни» он писал: «Даже самые варварские или диковинные обряды, самые
См.:
Там же. С. 726.