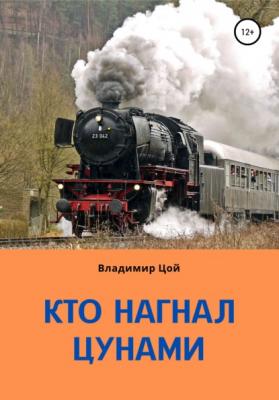ТОП просматриваемых книг сайта:
Кто нагнал цунами?. Владимир Цой
Читать онлайн.Название Кто нагнал цунами?
Год выпуска 2015
isbn
Автор произведения Владимир Цой
Жанр Биографии и Мемуары
Издательство ЛитРес: Самиздат
Если царская администрация до конца ХIХ века относилась к беженцам из Кореи терпимо, а порой даже благожелательно, то в последующем противодействовала их притоку и оседлости, а тех, кто уже обосновался в России, пыталась заставить уехать назад. Но тщетно. Так, пограничный комиссар князь Трубецкой по поручению своего начальства и в присутствии выборного представителя переселенцев провёл переговоры с корейской пограничной властью о принятии ею репатриантов и оказании им помощи. Заручившись согласием своих «коллег», Трубецкой отправился в деревню Тизинхе и, сообщив о результатах «саммита», потребовал от тамошних жителей непременно вернуться в свою страну. Корейцы, недолго посовещавшись, решительно объявили, что они готовы терпеть какие угодно лишения в России, но назад не поедут, потому что их ожидает там неминуемая смерть.
Конечно, тесное соседство с «японизированной» Кореей не могло не вызывать озабоченности и у советской власти на Дальнем Востоке, особенно в первые её годы. Пролетарский интернационализм – да, классовая солидарность – безусловно, но и фактор «национального родства» нельзя было игнорировать, прежде всего потому, что приграничная территория стала пристанищем огромного числа корейцев с японским гражданством (выше мы отмечали, что после того, как полуостров был колонизирован, жители его автоматически превратились в подданных императора островной страны). Без сомнения, прежде всего к ним относился пункт 5 совместного постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О выселении корейского населения пограничных районов Дальневосточного края»: «Не чинить препятствий переселяемым корейцам к выезду, при желании, заграницу, допуская упрощенный порядок перехода границы».
Однако возвращаться на родину под иноземный гнёт, а то и угодить в тюрьму или даже на эшафот абсолютному большинству корейцев-иностранцев, конечно, было не с руки, тем более что значительную их часть составляли политические эмигранты – борцы за освобождение Кореи от ига Японии. Но и гражданами СССР по разным причинам они ещё не стали. По данным переписи 1923 года, только в Уссурийском крае таких было 72 258 человек, тогда как лиц с российскими паспортами насчитывалось в два с лишним раза меньше – 34 559. После принятия в 1924 году Закона о советском гражданстве положение стало выправляться, и к 1937 году, надо полагать, соотношение изменилось в пользу вторых, но всё же корейцев со статусом подданных Японии оставалось ещё огромное число. Иммигранты хотя и являлись в массе своей беженцами от самурайского ига и, следовательно, непримиримыми противниками того режима, всё же де-юре значились гражданами другого государства. Это сильно осложняло отношения