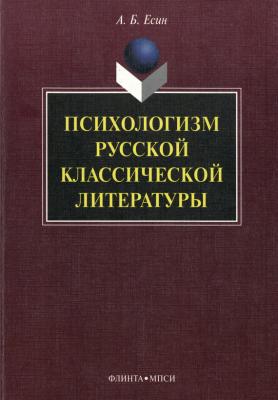ТОП просматриваемых книг сайта:
Психологизм русской классической литературы. А. Б. Есин
Читать онлайн.Название Психологизм русской классической литературы
Год выпуска 1988
isbn 978-5-89349-404-4, 978-5-89502-373-0
Автор произведения А. Б. Есин
Жанр Культурология
Естественно, что каждая форма психологического изображения обладает разными познавательными, изобразительными и выразительными возможностями. В произведениях писателей, которых мы привычно называем психологами, – Лермонтова, Толстого, Флобера, Мопассана, Фолкнера и других – для воспроизведения душевных движений используются, как правило, все три формы. Но ведущую роль в системе психологизма играет, разумеется, прямая форма – непосредственное воссоздание процессов внутренней жизни человека. Это вполне закономерно, поскольку данная форма психологического изображения является наиболее естественной для литературы как вида искусства, прирожденной для нее и, следовательно, обладает наибольшими возможностями представить нам внутреннюю жизнь человека живо, наглядно и подробно. Еще Лессинг отмечал, что носитель образности в литературе – слово – легко фиксирует те явления жизни, которые не получают материального, наглядного воплощения в самой реальности[15]. К таким явлениям относится, конечно, внутренний мир человека.
Есть и второе обстоятельство, которое обусловливает исключительные возможности психологического изображения в литературе. При создании литературных образов писатель пользуется языком, словом, что позволяет ему прямо и непосредственно запечатлевать процессы мышления, так как оно осуществляется не иначе как в речи, слове.
Таким образом, литература имеет поистине уникальные возможности в сфере изображения внутреннего мира человека.
Но эти возможности реализуются не автоматически и далеко не всегда. Мы привыкли, что писатели нового времени в изображении душевных движений пользуются всеми тремя формами психологического изображения – «прямой», «косвенной» и «суммарно-обозначающей». Но так было не всегда и не везде. На ранних ступенях развития художественная литература воспроизводила внутренний мир персонажей, лишь называя отдельные процессы душевной жизни или фиксируя их внешние проявления в жестах, мимике, поступках, публичной речи и т.п. Такую картину наблюдаем мы, например, в поэмах Гомера, в «Слове о полку Игореве», в народных сагах, былинах и сказках, в «Песне о Роланде»... Хотя внутренний мир героев и запечатлевался таким образом в литературе (в той или иной мере), но психологизма в собственном смысле слова в ней еще не было: литература не пользовалась наиболее важным и наиболее свойственным ее природе средством психологического изображения – прямым проникновением в процессы внутренней жизни героя и передачей этих процессов в формах внутреннего монолога, авторского психологического анализа, несобственно-прямой речи и т.п. Отсутствию прямой формы психологического изображения сопутствовали и другие черты стиля: сосредоточенность повествования на событиях и действиях героев либо на их нравах (как у Гесиода и Горация или в русских сатирических повестях); лишь эпизодическое (а не постоянное)
См.: