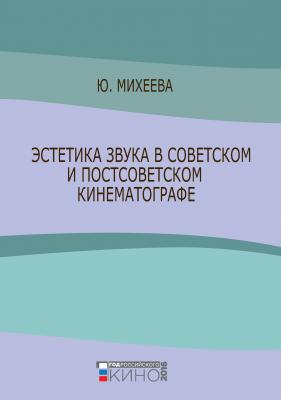ТОП просматриваемых книг сайта:
Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе. Юлия Михеева
Читать онлайн.Название Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе
Год выпуска 2016
isbn 978-5-87149-193-5
Автор произведения Юлия Михеева
Жанр Кинематограф, театр
Издательство ВГИК
Движение камеры сопровождается очень страстной, диссонантной, свободной в ритме, динамике и гармонии музыкой Вячеслава Овчинникова[66]. Вместе с соответствующим характером движения камеры, музыка как бы возвращает зрителя в трагические события предыдущих частей фильма, на фоне которых создавались живописные шедевры Рублева. И здесь мы встречаемся с внутренним парадоксом финала фильма Тарковского: контрапунктом звуковой и изобразительной феноменологии – и онтологии иконописи. Музыка вместе с изобразительностью контрапунктирует со смыслом изображаемого (иконы). Для осмысления этого драматичного парадокса необходимо понять, что есть русская икона в своем глубинном смысле.
Отец Павел Флоренский написал об иконе, пожалуй, непревзойденные по глубине строки: «Как светлое, проливающее свет видение, открывается икона. И как бы она ни была положена или поставлена, не можешь сказать об этом видении иначе, чем словом выситая. Оно сознается превышающим всё его окружающее, пребывающим в ином, своем пространстве и в вечности. Пред ним утихает горение страстей и суета мира, оно сознается превыше-мирным, качественно превосходящим мир и из своей области действующим тут, среди нас»[67]. У Тарковского «горение страстей и суета мира» очень долго не утихают перед иконой. Всем своим существом призывает она к совершенно другому пространственно-ритмически молитвенному предстоянию перед ней. Взгляд человека перед иконой призван как бы скользить по плавным изгибам одеяний, очертаний изображенной фигуры, поднимаясь (восходя) в этом движении к лику. В глазах, в лике иконы – весь смысл и покой, молчаливое свидетельство о другом мире. Но к этому катарсическому упокоению перед иконой режиссер придет только в самом конце, в последних кадрах картины, после проживания человеческой трагедии (в том числе трагедии художника) перед святым ликом.
Именно такой характер финала фильма выражает общую идею картины, о которой писал режиссер: «В фильме о Рублеве мне меньше всего хочется совершенно точно восстановить обстоятельства жизни инока Андрея Рублева. Мне хочется выразить страдания и томление духа художника в том виде, как понимаю их я, исходя из времени и проблем, связанных с нашим временем. Даже если бы я задался целью именно восстановить время Андрея и смысл его страдания и обретения, все равно я не смог бы уйти от сегодня. <…> Моя цель – найти Андрея и его путь в своих мыслях, в своих страданиях, в своих обстоятельствах, и наоборот.
В «Лекциях по режиссуре» Тарковский упоминает о том, что в первоначальном варианте финала картины им была использована музыка Баха, которая подходила, по его словам, идеально (см.: