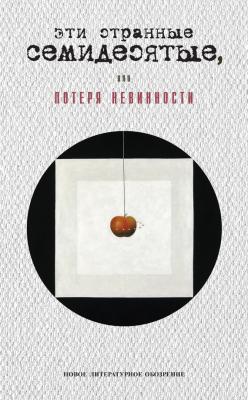ТОП просматриваемых книг сайта:
Эти странные семидесятые, или Потеря невинности. Георгий Кизевальтер
Читать онлайн.Название Эти странные семидесятые, или Потеря невинности
Год выпуска 2010
isbn 978-5-4448-0397-4
Автор произведения Георгий Кизевальтер
Довольно убедительно рисует молодое поколение в семидесятые критик О. Холмогорова: «“Семидесятники” ничего не делали для истории, а жили и придумывали для сейчас и себя; идей хватало, их не надо было рассчитывать, они даже выстраивались в очередь, перехлестывая друг друга, захлебываясь собственной плодовитостью. Минимум рефлексий и оценок по шкале местной и интернациональной иерархии, невероятное, почти физическое наслаждение от происходящего – от градуса кипения той артистической жизни, от концентрации самостийно устраиваемых событий, от той питательной интеллектуально-художественной среды квартир, мастерских и кухонь, которая действительно заряжала… Делание искусства было естественным, как дыхание, требовавшее выхода и ощутимой реализации»[13]. К этому можно добавить и сочетание двух таких стимулирующих обстоятельств, отмечаемых авторами в разговорах со мной, как удивительное количество свободного времени и совершеннейшая беззаботность молодежи.
И именно в семидесятые годы XX века Л.Н. Гумилев в своей монографии «Этногенез и биосфера Земли»[63] вводит в научный оборот понятие пассионарность (от лат. passio – страсть, страстность) – этот термин неоднократно употребляет в своем тексте художник Борис Орлов. В широком смысле речь идет об уровне «биохимической энергии живого вещества» (термин В.И. Вернадского), содержащейся в отдельном индивиде или в группе людей, объединенных внутрисистемными связями. Как одна из центральных категорий теории этногенеза, пассионарность означает энергетическое напряжение общественных систем. По концепции Гумилева, те люди, что обладают определенными характеристиками («человеческим качеством»), выступают движущим ядром общественных систем и придают им соответствующий вектор развития.
Очень все мило и зажигательно. Единственный вопрос, который возникает при чтении этих теорий, так это почему вдруг именно в семидесятые «пассионарность» столичных культур (при всей разнице менталитетов Ленинграда и Москвы, не думаю, что стóит говорить только о Москве, особенно если вспомнить питерских литераторов!) достигает такого особого уровня, что придает культуре столь жирно начерченный вектор движения на пару десятилетий вперед?
Концепция первая: до России наконец-то докатываются отголоски
Декоративное искусство. 2008. № 3. С. 105–109.
Период появления в самиздате – после 1973 года.