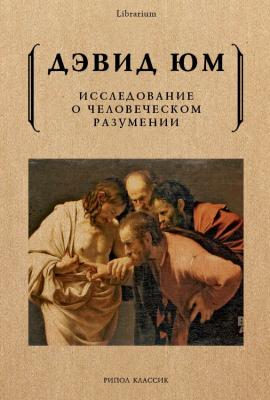ТОП просматриваемых книг сайта:
Исследование о человеческом разумении. Дэвид Юм
Читать онлайн.Название Исследование о человеческом разумении
Год выпуска 1748
isbn 978-5-386-10345-3
Автор произведения Дэвид Юм
Жанр Философия
Серия Librarium
Издательство РИПОЛ Классик
Причинность, привычка, вероятность. Сказанное выше позволяет нам более точно и содержательно воспроизвести юмовскую концепцию скептицизма. Юм характеризует последний в качестве скептицизма по отношению к разуму, который он обсуждает в третьей части «Трактата о человеческой природе» и с IV по VII главу «Исследований о человеческом познании».
Скептическое отношение к разуму вовсе не означает того, что Юм отказывает разуму в какой-либо достоверности вообще, сводя все исключительно к опыту. Юм согласен с тем, что разум способен выносить достоверные математические и геометрические суждения (так называемые аналитические суждения). Таковы, к примеру, следующие суждения: сумма квадратов катетов в прямоугольном треугольнике равна квадрату гипотенузы, трижды пять равно половине тридцати и т. д. Все эти суждения касаются исключительно идей и не требуют обращения к опыту.
То, что Юм называет скептицизмом по отношению к разуму, является скептицизмом по отношению к ложно приписываемой разуму способности определять опыт. А именно: разум не в состоянии определять отношение причины и следствия, которое его структурирует. Определение через отношение причины и следствия – это определение, при котором от объекта актуально данного в опыте заключают о существовании другого объекта, не данного актуально в опыте. По Юму, разум не способен делать такого рода заключения, поскольку отношение двух различных не математических объектов не может быть выведено a priori из понятия одного из них. По Юму, отношение причины и следствия можно вывести только из повторяющегося опыта – привычки. Именно потому, что мы многократно наблюдали, что солнце восходит каждый день, мы переносим прошлое на будущее и таким образом предсказываем восход солнца, хотя нет ничего, что могло бы придать восходу солнца объективную необходимость[14]: «Суждение “солнце завтра не взойдет столь же ясно, и столь же мало заключает в себе противоречие, как и утверждение, что “оно взойдет”»[15]. Иными словами, только потому, что мы привыкли, что солнце восходит каждый день, мы с твердой уверенностью утверждаем, что солнце взойдет завтра.
Поясняя отношение причинности, Юм выделяет три условных уровня достоверности последней: случайность, вероятность и вера. Условными они является потому, что обозначают (за исключением случайности) лишь наиболее резко отличающиеся друг от друга степени постоянства и частоты соединения предполагаемых причин и следствий. Разница
Кант И. Пролегомены. М.: Академический проект. 2008. С. 9. Наиболее известной является кантовская критика юмовского скептицизма. По Канту, скептическая философия, проведенная Юмом, должна быть средством обновления метафизики, но не отказа от нее. В своем главном труде «Критика чистого разума» Кант пытается показать, что субъективная необходимость синтетических суждений типа «солнце взойдет завтра» или «тело, лишенное опоры, всегда падает вниз» должна быть преобразована в объективную необходимость. Для этого Кант переформулировал проблему Юма: необходимость синтетических суждений должна быть выведена не прямо – из необходимости их объектов, но косвенно – из необходимости самих категорий, которые лежат в их основе, а именно, причинности, возможности и т. д, которые, с точки зрения Канта, даны a priori, а не из опыта, как считал Юм. Такого рода необходимость Кант и называет трансцендентальной. Он описывает ее в знаменитой главе «Критики чистого разума» под названием «Трансцендентальная дедукция».
Юм Д. Трактат о человеческой природе // Сочинения в двух томах М.: Мысль, 1996. Т.2. С. 22.