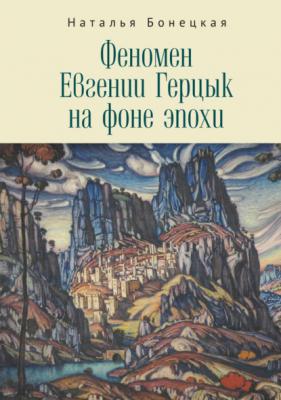ТОП просматриваемых книг сайта:
Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи. Н. К. Бонецкая
Читать онлайн.Название Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи
Год выпуска 2022
isbn 978-5-00165-410-0
Автор произведения Н. К. Бонецкая
Жанр Языкознание
Издательство Алетейя
«Детство мое протекало без всяких религиозных обрядностей, – пишет А. Герцык. – Меня не водили в церковь, у меня не было преданной няни, убеждающей класть земные поклоны в углу детской перед темной иконой и повторять за ней трудные, непонятные слова молитвы. Не было мифической обстановки, которой жаждет душа ребенка, того тайного значения и смысла, который красит и углубляет обыденную жизнь»[12]. Действительно, душа приходит в мир не как tabula rasa, а с таинственным бременем неведомой памяти, с каким-то знанием о глубинах бытия – не только о мире дольнем, но и горнем. Из древних с предельной остротой это чувствовал Платон, которому верили платоники всех времен и народов, в частности, русские символисты, – к их кругу шаг за шагом, взрослея, приближались сестры Герцык. Груз памяти предсуществования был мукой Аделаиды на протяжении всей ее жизни, осознавался ею как экзистенциальное задание победить «предвечную вину». В детстве подобная судьба сказывалась в темном влечении к языческой религиозности: «Во мне жила бессознательная грусть по ярким языческим празднествам древних предков, по жертвенникам, с которых густые черные клубы дыма поднимаются к синему небу, по пестрым процессиям с песнями и в венках, по страху и тайнам, которыми объят был мир»[13].
Конечно, случай Аделаиды и Евгении не был исключительным: почти каждый ребенок в своей основе – язычник. Только умное христианское воспитание может воцерковить и христианизировать его стихийную тягу к обрядности, таинственным предметам, чудесам. Таких воспитателей у сестер Герцык не было, и это толкало их на путь мифотворческих игр. Как и наши архаические предки, они обожествляли природные явления, выдумывали себе божков вроде зверовидного «Мурмурки», о котором повествует Е. Герцык, создавали обряды. Здесь, думается, исток «мифотворчества» уже взрослой Евгении, на которое ее провоцировал Иванов, – конструирования «Христа-Диониса», да еще с закваской Люцифера. От «детских игр» перебрасывается невидимый мост к столоверчению (Аделаида), гаданию с зеркалом (Евгения), к увлечению обеих сестер теософией и антропософией. Чаще всего Женя с Адей находили для себя «кумиры» в растительном мире. В парке, окружавшем их дом в Александрове, вспоминает Аделаида, они выбрали одно дерево и назвали его «царским», превратив в религиозного идола: ствол обвивали цветочными гирляндами, на ветви цепляли венки, а затем предавались диким пляскам вокруг него – «вертелись, прыгали на одной ноге до полного изнеможения и, наконец, падали на землю, простирая к нему руки». Природная
Там же. С. 251, 252.