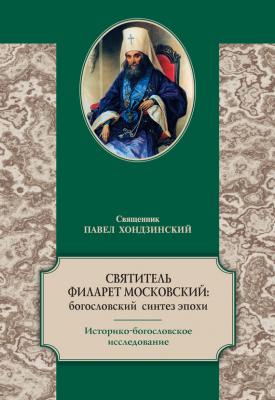ТОП просматриваемых книг сайта:
Святитель Филарет Московский: богословский синтез эпохи. Историко-богословское исследование. Протоиерей Павел Хондзинский
Читать онлайн.Название Святитель Филарет Московский: богословский синтез эпохи. Историко-богословское исследование
Год выпуска 2010
isbn 978-5-7429-0560-8
Автор произведения Протоиерей Павел Хондзинский
Жанр Религиоведение
Издательство Образовательное частное учреждение высшего образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет»
Следовательно, если в первые века противоположность языческого быта и христианского храма означала противоположность языческого государства и христианской Церкви, то теперь эта противоположность[40]сочеталась, напротив, с теснейшим объединением государства и Церкви: формы быта не определяли более замкнутых пределов Церкви ни в отношении противоположения секулярного и сакрального измерений, ни в отношении внешнего – неправославного – мира.
Со времен Петра границы Российской империи становятся абсолютно прозрачными для внешних культурных, и религиозных влияний, ранее сдерживавшихся столь же государственными мерами, сколь и замкнутостью моноязычного поля русского богословия[41].
Действительно, основой древнерусской богословской традиции являлось единство языковой стихии, где Писание практически «растворяется» в Предании: и Евангелие, и творения отцов суть «божественные книги», обладающие соответственно равной значимостью и авторитетом суждений. Ситуация меняется только в XVII веке, и, кажется, не оценен до сих пор по достоинству тот факт, что первое значительное духовное учебное заведение в Москве названо было не просто «духовной» академией, как это делалось позднее, но академией «славяно-греко-латинской». В этом обнаружились как заявка на собственное место в оппозиции Восток – Запад (своего рода преобразование греко-латинской оси в славяно-греко-латинский треугольник), так и понимание важности языковой основы богословия, задающей и весь последующий ход мысли. Отныне язык Предания – это латынь, язык Писания – с церковного детства впитанный славянский, во вторую очередь, очевидно, греческий (гораздо более ему – славянскому – близкий, чем латынь), а позднее и древнееврейский. Хотя, судя по цитации и некоторым мемуарам[42], греческий был даже скорее более языком философии, чем языком «отцов»[43].
Другим следствием того же самого можно считать объективно возникшее подразделение на «школьное» (латиноязычное и замкнутое в себе) и «открытое» (русскоязычное) богословие. Именно последнее обращалось уже ко всей Церкви (в проповедях
По определению, митр. Антония (Храповицкого), весьма интересовавшегося этой темой, быт есть «капитал нравственных привычек и общепринятых правил жизни, которые получили в русском народе более устойчивую мощь, чем принудительные государственные законы, действуя двумя сильнейшими мотивами человеческого общежития: мотивом
Раскол – трагедия абсолютизации быта, а корень внутренних противоречий синодальной эпохи во многом таится в ее «двубытности».
Теоретическое обоснование этих реформ дано было в той же «Правде воли монаршей», где сказано, что народ отказался от своей воли в пользу императора «и всю власть над собой отдал ему, и сюды надлежат всяко обряды гражданские и церковные, перемены обычаев, употребление платья, домов строение, чины и церемонии в пированиях, свадьбах, погребениях и пр., и пр. …»
Свт. Игнатий: «Западное просвещение так сильно нахлынуло в Россию, что оно вторглось в Церковь, нарушило ее восточный православный характер, хотя нарушило его в предметах, нисколько не касающихся сущности христианства»
Тот же свт. Игнатий заметил однажды: у нас «жизнь гражданская отделилась от жизни церковной» (Там же. Т. 1. С. 451).
С. Л. Фирсов в своей статье, посвященной истории церковно-государственных отношений в России, приводит мнение А. Ф. Степуна, считавшего, что незнание латинского языка, с одной стороны, защитило русское православие от соблазнов античной мысли, а с другой – сделало его в результате незащищенным от «обмирщенной» мысли нового времени (см.:
Митрополит Платон, во всяком случае, свои пробелы в греческом языке обнаружил именно в классе философии. (см.: Из глубины воззвах. С. 15).
О последовательном изучении греческих отцов в оригинале можно говорить только после реформы 1809–1814 годов. (см.: