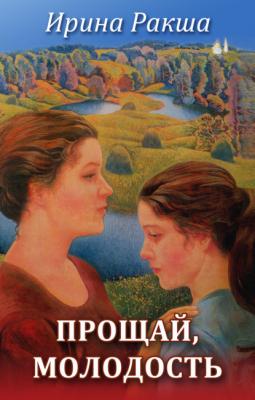Скачать книгу
в 1941-м… По его словам, он даже вынимал Цветаеву из петли (об этом можно прочесть в инете мой рассказ «Что сказал Сикорский»). А тогда в аудитории Литинститута мы слушали Вадима с открытыми ртами, ловили каждое слово. Ведь мы обожали, мы просто боготворили Цветаеву. Тогда советская цензура только что сняла запрет и разрешила её публикации. Вышла её первая книжка с фотопортретом. Я, грешная, украла её в районной библиотеке, такую аккуратненькую, в голубой твёрдой обложке (о чём потом даже каялась на исповеди). Мы наизусть знали всё, что печаталось в периодике: и её, и о ней самой. И она, гений, эмигрантка со сложной судьбой, представлялась, рисовалась нам сущей богиней. И, разумеется, сущей красавицей. Не иначе как «Неизвестная» Крамского. Но почему-то Сикорский, ширококостный здоровяк с грубым «топорным» лицом, с лапищами деревенских рук (больше похожий на лесоруба, чем на литератора), не раз называл её «заурядной тёткой» и «незаметной простушкой». Порой говорил даже жёстче: «Мимо пройдёт – не взглянешь». Говорил: «У неё друзей не было. Разве что моя семья, отчим и мама, поклонница её таланта. Когда приехали в Елабугу в эвакуацию, мама всё заставляла меня с ней «погулять по свежему воздуху». А та, бывало, вцепится мне в руку, повиснет на локте и семенит рядом. Стучит мелким шагом по деревянным тротуарам. И всё что-то рассказывает мне, рассказывает. Твердит то про Есенина, то про Блока, то про Маяковского. Я слушаю вполуха и злюсь, злюсь: ну какое право имеет эта тётка так рассуждать о наших советских классиках? Ведь мы их даже в школе проходим? Ну, я как дурень и таскаюсь с ней по улицам, гуляю туда-сюда. – И, помолчав, добавлял: – Я тогда как раз впервые влюбился. И взаимно. В одну молоденькую татарочку. Всё вечера ждал, темноты, чтоб кинуться к ней. У них свой дом был и свой сеновал». Мы, юные, его жадно слушали, но верить всему не хотели, сомневались. Для нас поэт Цветаева уже врезалась в сердца, уже стала кумиром. И, конечно, представлялась нам чудо-красавицей. А её отца, известного искусствоведа, профессора, основателя Русского музея искусств, православного дядьку, вдовца, мы категорически порицали. В перерывах, сидя в коридоре рядком на подоконниках, осуждали резко, горячо и единогласно. Ведь он был против брака своей своенравной старшей дочки с завидным красавцем Сергеем Эфроном. Мало того, отец говорил, что этот брак нелеп и не нужен. И не принесёт Марине счастья. Что жених младше её, что он практически юный школьник из Феодосии. Да к тому же ещё и еврей, то есть иноверец и инородец…
Мы приставали к Сикорскому с идиотскими вопросами (жаждали правды, подробностей её жизни и смерти), ответы на которые он не знал. Да и знать не мог: все архивы были тогда закрыты (а последний, «Записные книжки поэта», вообще стал доступен лишь в новом веке, недавно). Но тогда мы раз в неделю (на «светловское» мастерство, а Вадим был подмастерьем Светлова) всем курсом жадно ждали появления в аудитории его квадратной фигуры. Появления человека, близко знавшего «нашу» Марину. Ведь отсвет сияния её гения как бы падал и озарял этого
Скачать книгу