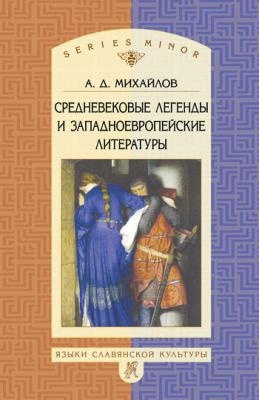ТОП просматриваемых книг сайта:
Средневековые легенды и западноевропейские литературы. Андрей Дмитриевич Михайлов
Читать онлайн.Название Средневековые легенды и западноевропейские литературы
Год выпуска 2006
isbn 5-9551-0150-0
Автор произведения Андрей Дмитриевич Михайлов
Жанр Культурология
Таким образом, на собственно кельтской почве легенды об Артуре прошли в своем развитии по меньшей мере пять этапов, вернее, в них может быть выделено пять слоев, пять слагаемых. Во-первых, это эпические сказания с сильной мифологической основой о племенных героях (типа богатырской сказки); во-вторых, мифологизированная история племенных столкновений, отразившаяся в известной мере в ранних валлийских «сагах»; в-третьих, также мифологизированные легенды о сопротивлении англосаксонскому нашествию, где впервые появляется Артур как главный герой этого сопротивления; в-четвертых, валлийские «саги» или «романы», сложившиеся накануне нормандского завоевания; в них идея реванша и пафос борьбы с саксами совершенно оттеснены на задний план авантюрно-фантастическим элементом, а Артур выступает не столько удачливым военачальником, сколько мудрым, убеленным сединами правителем, окруженным цветом рыцарства; наконец, в-пятых, это обработка артуровских сюжетов в смешанной франко-кельтской среде (Бретань), вскоре возвращенная нормандским завоеванием на родину.
Здесь совсем в новых условиях – политических и идеологических – эти легенды получили новую же обработку, сперва на латинском языке под пером Гальфрида Монмутского, а вскоре и на новых языках – трудами замечательных средневековых поэтов[61].
Это переосмысление старого эпического и фольклорного материала было продиктовано целым рядом политических причин. Но укажем здесь и на несколько иной аспект. В артуровских легендах, которые стали содержанием куртуазных романов, наполнявшие эти легенды фольклорные мотивы и темы, особенности стилистики и сюжетные «ходы» не исчезают, но коренным образом меняется их смысл. Они утрачивали живую непосредственность и во многом переходили в разряд сюжетообразующего фактора, даже просто «приема», что и было подмечено и высмеяно в эпоху Возрождения и Рабле, и Томасом Нэшем, и Сервантесом. Ритуально-мифологическая модель уступала место эмоционально-психологической. На смену мифологическому (или мифологизирующему) мышлению приходила литературная фантастика, вымысел. В этом отношении очень интересно наблюдение виднейшего советского медиевиста профессора А. А. Смирнова: «То, что в сказке, при всей видимой фантастичности, дается как самое „естественное“, справедливое и необходимое или же, наоборот, как столь же „естественно“ неотвратимое, гибельное (добрые силы природы, счастливые случайности, помогающие животные и губительные явления природы – чудовища, силы мрака), – в куртуазном романе преображается в диковинное, любопытное, непонятное и случайное („авантюры“)… Между фантастическим
Подчеркнем здесь тесную связь складывающихся французской и английской куртуазных традиций (это не устраняет, конечно, вопроса о их национальной специфике, что можно было бы показать на сопоставлении творчества франко-норманна Васа и англичанина Аайамона). Таким образом, французские труверы воспринимали артуровские сюжеты по меньшей мере из трех источников: от бретонских жонглеров, от их островных собратьев и из латинских сочинений типа книги Гальфрида Монмутского. Связь с английской средой у них была довольно тесной. Так, крупнейший французский поэт второй половины XII в., Кретьен де Труа, мог иметь контакты с английским обществом, хотя это документально и не подтверждается. Дело в том, что Кретьен был связан со дворами Марии Шампанской и Филиппа Фландрского; но Мария была дочерью знаменитой Алиеноры Аквитанской, вышедшей после развода с Людовиком VII за Генриха Плантагенета. Поэтому совершенно исключать возможность английских связей Кретьена вряд ли было бы правомерно.