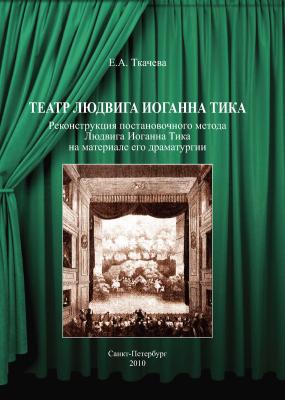ТОП просматриваемых книг сайта:
Театр Людвига Иоганна Тика. Реконструкция постановочного метода Людвига Иоганна Тика на материале его драматургии. Е. А. Ткачева
Читать онлайн.Год выпуска 2010
isbn 978-5-94856-761-7
Автор произведения Е. А. Ткачева
Жанр Кинематограф, театр
Издательство ""Центр научно-информационных технологий ""Астерион""
На сцене – сцена со зрительным залом, более приспособленные к показу оперных представлений, нежели драматических. На ней будут появляться сменяющиеся декорации места действия – каморка в избе Готлиба, королевский дворец, поле, лес, трактир на границе между государствами, замок Закона (у Перро – Людоеда). Здесь и пейзажи и интерьеры. Можно предположить, что в этом театре, писанном Тиком – рисованный меняющийся задник, и сложная машинерия, делающая возможным следование картин одной за другой без опускания занавеса. Этот театр, кроме того, располагает возможностями к показу различных сценических эффектов, к которым, как к единственному средству воздействия на публику, Автор прибегает в последнем акте.
Большое значение в пьесе имеет занавес – он ставит границы действию пьесы Автора, но не действию пьесы Тика. Ремарки «занавес опускается», «занавес падает» – относятся исключительно к внутренней пьесе, той, что дается на сцене некоего театра. В своих работах 1830-х годов Тик, создавая проект своего идеального театра, планировал отказаться от занавеса.
Актеры играют свои роли – Короля, Принцессы, Готлиба, Кота и других. Зрители – Мюллер, Фишер, Шлоссер, Беттихер, Лейтнер – смотрят на их игру. Но вскоре они сами становятся участниками Игры, устроенной Тиком.
В определенный момент возникает связь между залом и сценой: зрители возмущаются, стучат, свистят так громко, что тем самым влияют на ход пьесы, и вот уже выходит сам Автор, просит прощения, актеры, играющие свои роли, начинают подстраиваться под «зал», прислушиваясь к его реакции, сбиваясь, забывая слова. В кульминационный момент пьесы иллюзия (та, что создается на сцене в театре), в которую хоть отчасти, но погружены придирчивые зрители, рушится полностью. Занавес был поднят не вовремя, и в сказочной избушке вместо Кота в сапогах публика видит Автора, спорящего с Машинистом. Вконец запутавшиеся ценители «хорошего вкуса» не могут понять, где они, что происходит, и не сошли ли они с ума. Еще бы! «Правдоподобие» и «естественность», к которым они приучены сценой, здесь отсутствуют напрочь, и верить нельзя никому и ничему.
Ф. Шлегель пишет о подобном, характеризуя иронию: «хорошо, что гармоническая банальность не знает, как ей отнестись к этому постоянному самопародированию, когда вновь и вновь нужно то верить, то не верить, пока у нее не закружится голова, и она не станет принимать шутку всерьез, а серьезное считать шуткой».[110] Теоретические рассуждения Шлегеля перекликаются с ситуациями в комедии Тика. Его зрители – это не только сатира на филистеров,
Ribbat E. Ludwig Tieck. Studien zur Konzeption und Praxis romantischer Poesie. Kronberg, 1978. S. 193.
Шлегель Ф. Критические фрагменты// Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2 т. М.: Искусство, 1983. Т.1. С. 287.