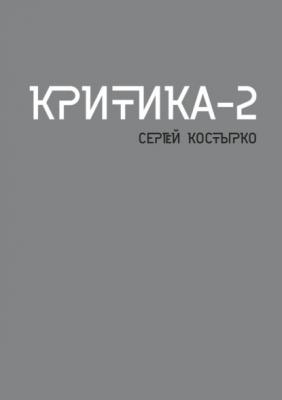ТОП просматриваемых книг сайта:
Критика – 2. Сергей Костырко
Читать онлайн.Название Критика – 2
Год выпуска 0
isbn 9785005924667
Автор произведения Сергей Костырко
Издательство Издательские решения
Здесь замечательна интонация – интонация человека, уверенного, что сказанное им – аксиома. Ну а для меня, например, – и, подозреваю, не только для меня, – дело обстоит ровно наоборот: «невсеядным и брезгливым» литературный критик как раз и обязан быть (при условии, разумеется, что пишет он, как Немзер, литературную критику, а не обзоры книжной продукции или журнальных публикаций).
Так требует само ремесло литературного критика – представляя современную литературу, он должен отобрать из прочитанного то, что с его точки зрения и есть сегодняшняя литература.
Не тот отбор делает Немзер? Может быть. Давайте спорить. Работа критика предполагает соразмышление, а не только усвоение. Но именно – спорить. То есть публично читать тексты критика и анализировать, а не отмахиваться: «Его обзоры „Литература в 2001 году“, „Литература в 2002 году“ и т. д., по-моему, чудовищны» – и ни слова о том, чем, собственно, они так чудовищны.
Про имена-бренды и про литературу
Для литературной критики естественно не разделять писателей на виды и подвиды, к которым нужен особый подход. Ну, скажем, не разделять их на «патриотов» (или «красно-коричневых») и «либералов» («демократов»).
Это уже – по поводу упрёков Немзеру в том, что он не замечает «патриотов» (то есть вообще-то замечает, как оговаривается автор, но – недостаточно активно), и одобрительных высказываний в адрес Данилкина, с такими разделениями, напротив, считающегося.
Постоянство этого мотива в статьях Белякова (и не только в его статьях) – это, на мой взгляд, проблема сегодняшней критики: её свободы и несвободы от форм «имиджевого мышления». Проблема преувеличенно серьёзного отношения к самой «знаковости» писательского имени.
Ну, скажем, к имени беляковского и данилкинского героя Александра Проханова, которого, для того чтобы считать серьёзным писателем, сначала нужно вынуть из собственно литературы и поместить в особое пространство «литературы патриотической» (или, как считает Беляков, «современного постмодернизма»).
И при этом зажмуриться на то, что в литературном отношении романы Проханова откровенно беспомощны – с плакатной выпрямленностью сюжетных ходов, лобовыми противопоставлениями небрежно набросанных образов, с пафосностью, вырастающей не из текста, а нагнетаемой извне, и, наконец, с очевидной глухотой к слову.
Харизматик, публицист, идеолог? Ну, не знаю. Возможно. Хотя, если честно, речи его о «русском космизме» по «Эху Москвы» слушаю с чувством неловкости и за говорящего, и за редакторов этого радио.
И мне, действительно, трудно представить, как чтение текстов Проханова может перевернуть мировоззрение не самого наивного, как мне кажется, человека, Данилкина; всё-таки Проханов, извините, – это не Константин Леонтьев.
(Ну а что касается Проханова-постмодерниста,