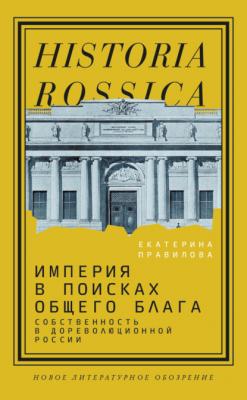ТОП просматриваемых книг сайта:
Империя в поисках общего блага. Собственность в дореволюционной России. Екатерина Правилова
Читать онлайн.Название Империя в поисках общего блага. Собственность в дореволюционной России
Год выпуска 2022
isbn 9785444820742
Автор произведения Екатерина Правилова
Жанр История
Серия Historia Rossica
Издательство НЛО
В начале XIX века тем не менее неотчуждаемость считалась неотъемлемой чертой частной собственности. Ограничение частной собственности ради общественных интересов представлялось ненормальным – по крайней мере, такое ограничение не могло быть институционализировано в законе. В 1809 году Михаил Михайлович Сперанский, одаренный государственный деятель, юрист и экономист, попытался впервые ввести правила экспроприации в проект гражданского уложения, который как в своих главных чертах, так и в интерпретации права частной собственности следовал наполеоновскому закону об экспроприации 1807 года. Сперанский стремился нормировать отчуждение частной собственности и установить твердые принципы для выплаты компенсаций. Его предложение было отвергнуто под тем предлогом, что, предписывая государству определенные способы ведения переговоров с землевладельцами по поводу отчуждения их собственности, правительство оскорбляет чувства своих верноподданных и, к выгоде «упорных людей», не уважающих «пользы общественной», посягает на священную частную собственность[123]. Любопытно, что французский закон об экспроприации, который Сперанский взял за основу для своего проекта, рассматривался как выполнение обещаний Декларации прав человека и гражданина (1789), которая установила и право общества отбирать чью-то собственность на общие нужды, и право граждан получать в этом случае справедливую компенсацию[124]. Тогда как в Европе институционализация экспроприации служила достижению компромисса между государством и частными интересами и на самом деле защищала частную собственность от незаконных конфискаций, в России экспроприация рассматривалась как посягательство на право частной собственности. Проект Сперанского не стал законом, а сам он впоследствии оказался в опале (одним из поводов для этого стала его франкофилия), был отправлен в ссылку и смог вернуться к своему проекту кодификации законов только в 1826 году. В 1810 году Государственному совету было все же поручено рассматривать дела об экспроприации, но в его распоряжении не было процедуры для разрешения конфликтов и установления размера компенсации за отчуждаемую собственность.
В 1821 году опять возник вопрос об экспроприации, когда Комитет министров рассматривал необходимость отчуждения мельницы на Оке[125]. Мельница мешала судоходству, и Министерство путей сообщения хотело ее снести, чтобы
Цит. по:
Историческая записка о судоходных и сплавных реках по русскому законодательству. С. 45. Тем не менее установленные этой инструкцией процедура и принципы никогда не применялись на практике (РГИА. Ф. 1287. Оп. 7. Д. 562. Л. 59 об.).
Архив Государственного совета. Государственный совет в царствование императора Александра I. Департамент законов. СПб.: Гос. тип., 1875. Т. IV. Ч. 1. С. 36–37.
ПСЗ I. Т. XXXVII. № 28646. 14 июня 1821 года. Я позаимствовала ссылку на эту дискуссию из работы Д. В. Тимофеева: