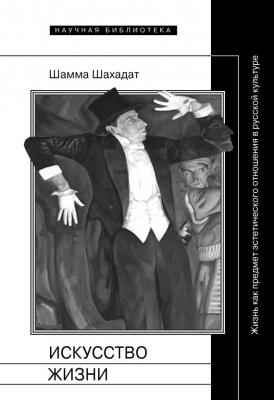ТОП просматриваемых книг сайта:
Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков. Шамма Шахадат
Читать онлайн.Название Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков
Год выпуска 0
isbn 978-5-4448-0816-0
Автор произведения Шамма Шахадат
Жанр Культурология
Издательство НЛО
Теория модернизма видит задачу культуры в том, чтобы сочинять саму жизнь, созидать (посредством теургии или революции) нового человека и новое общество[137]. Тем самым она – таков наш тезис – совершает узурпацию театрального знака. Ни в одном другом виде искусства демаркационная линия между жизнью и искусством (телом и бытием, с одной стороны, словом и знаком, с другой) не ощутима так отчетливо, как в театре. Но вместе с тем именно театр является местом, где эта граница может быть легче всего нарушена, будь то в форме перемены ролей, срывания масок или коллективного катарсиса, объединяющего актеров и публику.
Последняя из этих возможностей была описана Вячеславом Ивановым. В отличие от него, Блок выдвигает в центр внимания фигуру зрителя и, возлагая надежды на его преображение под влиянием аффектов, поэтизирует этот процесс в образах любви, обручения и священного брака. Все это Блок толкует в смысле синтеза, способного разрешить мифологизированное поэтом противоречие между «народом» и «интеллигенцией». Выражением народного сознания Блок считает искусство ярмарочного балагана; спасение интеллигенции состоит, по его мнению, в том, чтобы впитать в себя дух народного искусства и испытать очистительное преображение. О преображении мечтает и Николай Евреинов, но, в отличие от Блока или Иванова, ставит его в зависимость от техники ролевой игры. В период Октябрьской революции концепция человека-артиста, выдвинутая Евреиновым, вступает в сочетание с идеями Иванова о возрождении ритуала, и это сочетание образует основу массового театра эпохи революции. Признаком, общим для всех проектов, является снятие границы между театром и жизнью. Особый случай представляет собой в этом контексте футуристический театр, выдвигающий на первое место не человека непосредственно, а слово и словотворчество, тождественное миросозиданию.
Теория жизнетворчества, расцвет которой приходится на эпоху раннего модернизма, имеет за собой длительную традицию, представленную как литературными проектами (роман Чернышевского «Что делать?», 1863), так и теоретическими концепциями. Последние восходят к Платону, Владимиру Соловьеву, Николаю Федорову и Ницше, чьи философские взгляды обнаруживают постоянное присутствие во всех текстах, посвященных жизнетворчеству[138]. В первую очередь это относится к определившей очень многое в символизме философии Соловьева с его верой в возможность эстетического синтеза духа и плоти в новом искусстве, представляющем собой воплощение духа и одухотворение плоти. Обосновывая триаду «добро – истина – красота», Соловьев признает
Утопическая модель «нового человека» восходит как к французскому утопизму, так и к традициям русской революционно-демократической мысли. После Французской революции образ Иисуса Христа как модель
См. статьи в сборнике, подготовленном Паперно и Гроссманом (Paperno / Grossman, 1994).