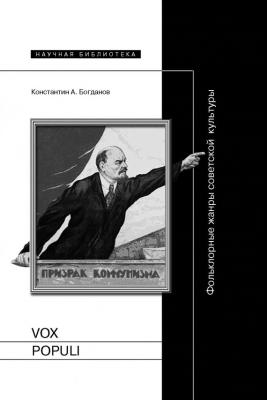ТОП просматриваемых книг сайта:
Vox populi. Фольклорные жанры советской культуры. Константин Анатольевич Богданов
Читать онлайн.Название Vox populi. Фольклорные жанры советской культуры
Год выпуска 0
isbn 978-5-4448-0348-6
Автор произведения Константин Анатольевич Богданов
Жанр История
Концепции и методики, призванные прояснить особенности внутренней и внешней политики советских властей, заведомо апеллировали при этом к объяснению не нормы, но патологии. В наиболее элементарном виде «антропологические» аргументы на этот счет сформулировал немецкий историк античности Отто Зеек, настаивавший на излюбленном им (и восходящем к истории древнегреческой политической мысли) тезисе о принципиальном неравенстве людей, изначально конфликтном сосуществовании высокоодаренных одиночек и бездарной, завистливой толпы. В введении к «Истории развития христианства» (1921) Зеек объяснял происходившее в советской России как наглядное воспроизведение ситуации гибели античной цивилизации – победой «худших» над «лучшими»3. В последующие годы в объяснение видимых несообразностей советской действительности ученые-советологи часто обращались к историческим аналогиям, демонстрирующим эксцессы властного произвола и пределы социального терпения. Терминология, позволяющая представить особенности политического управления в терминах нормы и ее нарушения, оказывается уместной и в этом случае – и не только, конечно, применительно к истории СССР, – в нелишнее напоминание о том, что история самих институтов политической власти является примером процесса, который, по давнему замечанию Харольда Лассвела, делает особенно явными иррациональные основы социальности. Если целью политики является разрешение тех противоречий, которые изначально присущи человеческому общежитию, то ясно и то, что способы такого разрешения не ограничиваются сферой рационального4. Сам Лассвел считал на этом основании возможным изучать политику с точки зрения психопатологии. Соблазн медицинской и психиатрической терминологии в еще большей мере коснулся тех историков культуры и литературоведов, кто, вслед за Лойдом Де Моссом, пытался понять прошлое с опорой на методы психиатрии и, особенно, психоанализа5. Исторические аналогии, позволяющие усмотреть в советском прошлом закономерности (или превратности) общечеловеческой истории, варьировали – в сопоставлениях соратников Ленина с якобинцами, Сталина с Иваном Грозным и Петром I, советского тоталитаризма с немецким фашизмом и китайским маоизмом и т.д.6, – но в целом подразумевали предсказуемый вывод: происходящее в советской России может быть названо иррациональным и абсурдным, но рационально объяснимо насилием власти, зомбирующей пропагандой, страхом и социальным фанатизмом.
Девальвация «тоталитарной парадигмы» западной советологии осложнила представление об однонаправленности механизмов социального контроля в советском обществе и придала большее значение детализации дискурсивного взаимодействия между властью и обществом (с учетом того, что инстанции властного контроля являются не только внешними по отношению к субъекту)7, но не изменила – или даже усилила – представление о советском обществе как обществе, уверовавшем в идеологическую утопию и потому принявшем в качестве неизбежного или должного вещи, труднообъяснимые для человека западной демократии8. В целом результат советологической ревизии выразился в том, что прежняя патология была объявлена нормой, а прежняя норма (например, те, кто изнутри оценивали советскую действительность глазами старорежимных либералов и западников) – патологией. Авторитетами в репрезентации советской культуры стали отныне не критики режима, но «простые советские люди», носители «интериоризованного советского опыта», усвоившие базовые ценности идеологии и не искавшие им социальной или культурной альтернативы, искренне (или не очень) одобрявшие решения партии и правительства, искренне (или не очень) готовые «к труду и обороне» и т.д. Между тем в своих крайностях тоталитарная и ревизионистская парадигмы советологии предстают вполне взаимозаменимыми. И та и другая предъявляют читателю метанарратив, который равно позволяет задуматься
В ряду саркастических расшифровок аббревиатуры РСФСР в 1920-е годы бытует выражение «Редкий случай феноменального сумасшествия России» (
Содержательный обзор истории понятия и предмета советологии см.:
Принципиально важными в данном случае стали тематические выпуски, посвященные перспективам советологических исследований: The Russian Review. 1986. Vol. 45; The Russian Review. 1987. Vol. 46. О состоянии проблемы на сегодняшний день:
См., напр., сравнительно недавнюю работу, прилагающую к анализу советской повседневности 1920 – 1930-х годов концепцию девиантного поведения: